– Ну вот, сынок, я тебя женил и справил. Теперь живи своим умом – я боле перед Богом за тебя не ответчик! – так, обычно, говорил казак сыну, когда заканчивались все приготовления молодого казака к службе.
Как отмечает Борис Алмазов*, основная особенность казачьих войск заключается в том, что коня и все снаряжение – справу – семья покупала за свой счет. Это для казака было не только тяжелейшим бременем на всю семью, но несло и глубокое философское содержание.

В понимании наших предков «справа» – это не просто набор необходимых для службы вещей, но и особый, часто мистический, ритуальный смысл, которым казак наделял шапку, шашку, мундир и т. д. «Справа» – это не только военная форменная одежда, конь и оружие, это в широком смысле вообще национальный костюм, а еще шире – казачья нравственность, бытовой и хозяйственный уклад, весь комплекс предметов и обычаев, окружавших казака. Казака «справляли» задолго до того, как он шел служить. Это связано не только с огромными материальными затратами на амуницию и вооружение, но и с тем, что казак вживался в новый для него мир предметов, идей и понятий, в новый мир, окружавший мужчину-воина.

Как правило, отец не только собирал необходимую амуницию и вооружение, но и обучил сына ремеслу и всему, что необходимо знать хозяину, главе будущей семьи, члену станичного казачьего общества. Сын понимал, что больше не вправе что-то требовать от отца. Мера отмерена ему полностью. Он – ломоть отрезанный.

Поэтому рассказ о казачьей справе нужно начинать не с рассказа о вещах, а с объяснения внутреннего смысла, который вкладывается в каждое понятие и предмет. Важнейшим и первым было понятие «исправности».
«Казак обязан быть исправен». В такую формулу наши предки вкладывали очень широкий смысл. Это ясность души, четкость мировоззрения, верность в слове и деле, физическое здоровье и опрятность во внешнем облике. Особую часть понятия «исправность» составляли постоянная боевая готовность. Адмирал Макаров объяснял ее, прежде всего, как готовность в любую минуту ринуться в бой и умереть за Родину.
Разумеется, первое, что у казака должно быть – это строевой, крепкий и здоровый конь. На нем никогда не пахали, не возили грузы, он «сберегался в теле» и постоянно, ежедневно по несколько часов «работался» только для войны. И, конечно же, крепкое хозяйство, хотя об этом говорилось в последнюю очередь.

Казак мог быть беден, но не мог быть неисправен. Это также немыслимо, как и неопрятный казак. Внешнее проявление исправности – уставной порядок в одежде, здоровье и как следствие –веселый дух. В любых условиях тщательно соблюдались правила личной гигиены. На службе казак еженедельно ходил в баню, менял нательное белье, сам стирал, ежедневно мыл ноги, умывался, брился, подшивался – менял ежедневно подворотничок гимнастерки и т.п.
Старшие по званию могли в любой момент, даже в мирное время, приказать строевому казаку раздеться, показать чистоту тела и исподнего. Это связано не только с требованиями войны – пренебрежение личной гигиеной вело к потере боевых качеств: потертостям ног, опрелостям, распространению болезней, но и с высшим духовным смыслом. Постоянное поддержание себя «в форме», как бы сейчас сказали, заставляло казака постоянно помнить о той цели, ради которой он пришел в этот мир – служении Богу через служение своему Отечеству и Народу – ОРУЖИЕМ.

Зимой, за неимением воды, казак ежедневно, обтирался снегом по пояс. В пустынях, где не было воды, казаки каждые три дня на походе прожаривали одежду на солнце, зимой над костром, при отсутствии воды устраивали «сухую баню» – валялись в мелком песке обнаженные и обтирались суконкой на ветру. Вероятно, способ, восходящий к античным временам, каким пользовались древние греки, и до сих пор владеют жители пустыни. Брились даже в условиях окопной войны. При отсутствии мыла и горячей воды брились «свинячьим способом» – отросшая на щеках щетина подпаливалась и обтиралась мокрым полотенцем.
Но это касалось только молодых и неженатых казаков и казаков гвардии, которые носили только усы. Женатые казаки носили, как правило, бороду. Борода тщательно подстригалась и подбривалась. Особый фасон казачьей бороды обуславливался способом бритья. Казаки брились шашкой. Она подвешивалась за темляк, и казак брился лезвием боевого конца. Поэтому бритыми были только щеки и шея под подбородком. Так брились до XVII века и позже, когда «опасная бритва» стала входить в обязательный набор казачьего снаряжения, но фасон бороды сохранился. Иное дело – чуб. В средние века казаки носили три широко известные прически. Казаки – черкасы оставляли хохол по всей гладко выбритой голове, типа «ирокеза». Это дало основание для насмешливого прозвища казаков-запорожцев – хохол, или оселедец, обе прически носили только воины казаки запорожцы. Одна прядь волос на выбритой голове восходит к древнейшим временам. Так, у норманнов «оселедец» означал посвящение одноглазому богу Одину, его носили воины – слуги Одина, и сам бог.
Любопытно, что у персов само слово «казак» и означает «хохолок».
Казаки среднего Дона, Терека и Яика стриглись «под горшок», «под арбузную корку».
И, конечно, знаменитый казачий чуб, выбивающийся из-под фуражки – самая молодая прическа. Появилась она не раньше ХVII века под влиянием польской и европейской моды: бритый затылок и кудрявый чуб надо лбом.
Срезанные волосы, во всех древнейших магиях, имеют огромную сипу, поэтому их тщательно прятали: закапывали в землю, опасаясь, что волосы попадут к врагу и тот совершит над ними заклинания, причиняющие порчу.
Во всех казачьих землях сохранился древнейший обычай первой стрижки ребенка.
Обычай постригов не умирал в казачьей среде никогда. Как и крещение, фактически, запрещенное при советской власти, он исполнялся тайно. Когда мальчику исполняется год крестная мать в окружении женщин-родственниц, но без матери родной, которая не присутствует и при крещении ребенка, усаживает его на кошму и первый раз в жизни стрижет. Обряд сопровождается благими пожеланиями и ритуальными песнями, волосы тщательно собираются и хранятся в киоте именной иконы, которая дарилась ребенку при рождении и сопровождала его всю жизнь. Если казак брал икону с собою в поход или на службу, то пакет с волосами мать перекладывала в киот своей домашней иконы. Волосы первого пострига всегда оставались в родном доме.
Эти волосы либо укладывались в гроб умершему или в гроб матери, если он бывал погребен на чужбине, либо сжигались с частью его личных вещей, какие не наследовались и не раздавались нищим.
В семь лет казачонка стриг крестный «в скобку», после чего ребенок первый раз шел мыться с мужчинами в баню. Происходило это, как правило, в субботу, а в воскресенье, облачившись в новую, мужского покроя одежду, мальчик первый раз шел к исповеди.

Третий, последний раз, ритуально казака стригли в 19 лет при зачислении в казаки и приведении к присяге на верность службе. За день-два до присяги, соблюдая строгий пост, малолеток шел с отцом и крестным в баню, где его стригли наголо, одевали во все новое и чистое. К присяге он шел «бритоголовым».
Эта третья ритуальная стрижка означала его расставание с гражданской жизнью и вступление в военную. Теперь главной заботой его и его семьи была «справа» снаряжение на службу. За два года до призыва на действительную, он должен был многому научиться, многое собрать и… отрастить чуб.

* Алмазов Борис Александрович родился в 1944 году в Ленинграде, через три месяца семья переехала на Дон. Здесь будущий писатель впитал культуру и традиции казаков.
В 1990 году Алмазов начинает участвовать в возрождении казачества и постепенно становится идеологом российского «Союза казаков». Сначала его избирают первым атаманом Санкт-Петербурга, а затем и всего Северо-Западного отдельного казачьего округа.
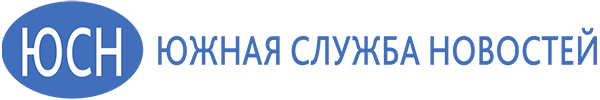
0 комментариев