Донские казачки испокон веков славятся особенной красотой, житейской хваткой и силой характера.
В Статистическом описании Области Войска Донского, изданном в 1884 году, сказано: «В силу особенностей военного быта на Дону исторически вырабатывался особенный тип женщины – неустанной труженицы, смело и энергически принимающей на себя все труды мужчины, всюду поспевающей и все делать успевающей».

Кроме того, росла и роль женщины в казачьей общине. Причем, не только по сути, но и по статистике. Согласно первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года, казачек насчитывалось на 10 % больше, чем казаков. С годами казачки получили все больше гражданских прав, хотя домашний статус оставался ниже, чем у казака. «Подъем» же ее в обществе и семье, начинался с куреня.
Мой курень – моя крепость
К чести женщины-казачки следует отнести ее заботливость о своем курене и подворье. Умение содержать дом и хозяйство в исправности высоко ценилось на Дону во все времена.
Казачки всегда были главными в курене, постоянно наводили в нем порядок и уют. Несколько раз в год – к Пасхе, Рождеству, празднику святых апостолов Петра и Павла, перед Покровом – делали в нем генеральную уборку. Внутренние стены белили, а наружные – желтили глиной.
Вот что отмечал Георгий Губарев, подъесаул, исследователь казачьей древности, автор «Книги о казаках», сотрудник редакции «Малого Казачьего Энциклопедического Словаря»: «Не вычистить курень и выпустить мужа и детей в неаккуратном виде – для казачки уронить свое человеческое достоинство».

Те казачки, чьи курени стояли недалеко от реки, зимой и летом стирали в Дону. Использовали при этом рубель (деревянную доску с вырубленными поперечными желобками для катания белья) и мыло. Иногда вместо мыла применяли золу. Сжигали стебли подсолнечника, образовавшуюся золу складывали в холщовый мешок и клали его при стирке в корыто с водой. Вода от этого становилась мыльной.
Хорошей хозяйкой считалась казачка, у которой всегда была наготовлена еда, чисто выстирано и правильно повешено на веревке белье. Приходившие на чай или кохвий (кофе) соседки, всегда обращали внимание на чистоту посуды, особенно на чайник. Еду готовили на дровяной печи, а все, что в ней сжигалось, и коровьи лепешки тоже, давало много копоти. Если все было чисто, то казачка – настоящая хозяйка. Ее так и называли – «додельница», «чистотка».
«Не боли болячка – я казачка!»
Вот так, весь день и круглый год она хлопотала по дому, по огороду, в хлеву, на винограднике. Успевала вовремя прополоть, вычистить, полить, подвязать, сена накосить, кизяка заготовить. Да еще всю семью хорошо накормить. А придет время – урожай собрать да сохранить: капусту заквасить, огурцы засолить, терн замочить, вишню высушить...
Конечно, ей помогали дети, причем сызмальства. Воспитывала детвору казачка, делясь собственным опытом, знаниями и навыками ведения хозяйства, а в отсутствие главы семьи – исключительно личным примером.

Рожала казачка часто в поле, во время работы. Детей приучала к труду очень рано, особенно – дочек. В четыре года казачата работали в саду и кормили домашнюю птицу, а дочки начинали шить, вышивать и вязать. С пяти лет детвора пасла коров и гусей, умела управлять волами, чистить чугунки и горницу.

Семилетние девочки уже отвечали за чистоту на подворье, обрабатывали огород, учились готовить и нянчились с младшими детьми, управляться с коромыслом. Мальчики осваивали конскую упряжь, оружие да верховую езду. Но это уже, как говорится, совсем другая история.
Свободного времени у казачки не было. А чуть присядет – берется вязать пуховые платки и шерстяные носки, шить одежду для себя и для детей, ткать, вязать, врачевать. В хозяйстве на казака надежда плохая – то он на сборах, то на войне. Так всякая домашняя работа ложилась, в основном, на женские плечи.
Но жены казаков никогда не роптали на свое положение, не жаловались на долю, а во время любой работы, порой – изнурительной, в жару или на морозе ухитрялись оставаться красивыми, бодрыми, да еще и песни петь.
Казачки гордились своим происхождением, житейскими навыками, выносливостью, умением справляться с проблемами. А когда приключалась хвороба или приходилось беду бедовать – даже в самые трудные минуты – говорили, помолясь: «Не боли болячка – я казачка!»
«У нас полно икон»
Донские казачки были набожны и религиозны. Духовным идеалом для них был Бог, а помощницей в жизни – Богородица. Считалось, что сильная вера и молитва перед образами святых защищали женщину и ее семью от напасти и несчастий.
Казачки не пропускали церковной службы в будние дни, не говоря уже о воскресеньях и праздниках. Говели два раза в году – в Великий пост и на Спас, знали Псалтирь и Часослов, а некоторые даже умели читать по-церковнославянски.

«В курене у нас полно икон почти в каждом углу, и перед ними неугасимо горят лампадки. Пахнет гарью деревянного масла, ладаном, воском и еще чем-то церковным», – мог сказать любой казак об атрибутах православной веры в родном доме.
Казачки всегда щедро раздавали милостыню, подкармливали бедняков, угощали монахинь, почитали священнослужителей. Добровольно жены казаков убирали в церкви, помогали соседям при строительстве куреней, и во всех случаях, когда кому-то из станичников требовалась помощь. И без всякой какой-либо подсказки, исходя из своих возможностей и достатка, помогали всем, у кого была нужда.
Несмотря на набожность донских женщин, характер у них был свободолюбивый, гордый и властный. Им чужды были покорность и забитость. Ведь они не знали рабства, крепостного права. Почти никогда они не шли в услужение к помещикам и богачам. А когда муж на службе и в длительных походах, казачка сама принимала серьезные решения по всем житейским вопросам.
Любили наряды, румянились, сводили с ума
Характер казачек, а главным образом – достаток семьи – подчеркивали одежда, ее опрятность, разнообразие и стоимость.
От зажиточности казака зависело, какой будничный костюм летом будет носить его казачка – холщовый, ситцевый или хлопчатобумажный. Если верх рубахи украшала вышивка, то юбку надевали без кофты. Если же рубаха простая и без отделки, то – с кофтой. Кофту всегда носили навыпуск, не заправляя в юбку.

В холодную погоду поверх рубахи казачки надевали сукман или сарафан из шерсти черного, синего цвета либо некрашеной. По прямому разрезу на шее, который застегивался на пуговицу, пришивалась шелковая лента. Дополнял костюм плетеный пояс из красных или синих шерстяных ниток. Во второй половине XIX века сукман носили уже только пожилые женщины как праздничную или обрядовую одежду.
Для выхода у жены казака был каврак – кафтан, который застегивался до пояса, и бешмет – длинный цветной стеганый кафтан, расклешенный книзу, с длинными рукавами, на подкладке, украшенный тесьмой и стеклярусом.
Своеобразием отличалась и женская прическа. Незамужние женщины носили косу с одной-тремя лентами. Чем богаче девушка, тем больше в косе лент. Косу заплетали на несколько дней – от бани до бани. На свадьбе волосы девушки делили на две косы, которые завивали в «шишку».
С 40 лет их укладывали на затылке замочком, прикрывая кичкой из материи, украшали прическу гребешками. В старости косы обвивали вокруг головы. Женщина-казачка не должна была находиться с непокрытой головой на людях, это считалось грехом и позором. Поэтому голову жены казаков покрывали пестрым платком или большими шалями.

На ноги дончанки обували башмаки, полусапожки простой работы или с медными подковками, купленные в лавке. Выходной обувью считались калоши. Праздничной обувью у казачек были высокие ботинки на шнурках, но приобрести их могли только зажиточные семьи. Сапоги женщины никогда не носили – это считалось таким же грехом, как носить брюки и стричь волосы.
«На пальцы надевали золотые и серебряные кольца, на шею – янтарные намиста, в уши вдевали серьги», – пишет историк Елена Годовова.
Как и все женщины, казачки любили наряды, румянились, когда выходили в гости или в церковь.
Неоспоримый авторитет казачки, ее деловитость и домовитость, нежность и страстность кого угодно могли свести с ума. Многие иностранцы, побывавшие в России, влюблялись в русских женщин, но красотой, умом и силою казачек восхищались особенно.
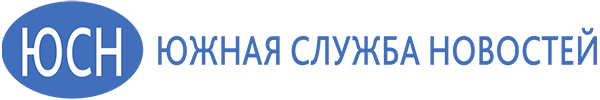
0 комментариев